

Тетювас
В марте 1942 года после семимесячных скитаний по Украине, России, Казахстану и Узбекистану мы прибыли в город хлебный – Ташкент. Мы – это моя мама, бабушка, дедушка, 17-летний дядя Герш – брат матери и я. Мне не было ещё пяти лет, но я уже к тому времени хорошо прочувствовал разницу между давно прошедшим сладостным «до войны» и суровым, как холодные зимние ташкентские ночи, «сейчас».
Герш говорил мне: «Ничего, Мишка, закаляйся, победа будет за нами!» И я представлял себе победу в виде женщины-родины, которой пестрели все заборы даже в тихом, спокойном месте Ташкента, где мы жили, Речном проезде.
Разместили нас, как семью офицера, находящегося на фронте, и ещё одну семью из Самары, уплотнив хозяев – семью бывшего белогвардейца Александра Семёновича Голубенко.
Если для кого-то слово «белогвардеец», в общем, абстрактно, расплывчато даже сейчас, когда органы информации, как бы сговорившись, наперебой восхваляют белую гвардию, её традиции, приписывают ей некую освободительную миссию, несостоявшуюся, кстати, то в моём понятии это слово с раннего детства предстаёт в том самом смысле, в котором, на мой взгляд, оно и было.
Александру Семёновичу было в 1942 г. 52 года, он был ровесником моей бабушки Енты, которую и тогда, и до самой смерти все знакомые называли почтительно «мадам Мишкова». Почему «мадам» на французский манер? Не знаю. В жизни обязательно есть моменты или факты, которые, будь ты хоть семи пядей во лбу, никогда не объяснишь.
Штабс-капитан Голубенко в 1921 году растворился в общей массе беженцев из Европы. Никто его не судил, даже не разыскивал; достал гражданскую одежду, когда армия Будённого разбила беляков, да и был таков. Он был инвалидом, передвигался с помощью палки, сильно припадая на правую ногу, - результат ранения, полученного в Фергане в конце 1920 года. В том же 1921 году он довольно быстро устроился работать бухгалтером в одной из многочисленных артелей Ташкента, женился на комсомолке Анне. Через три года родился Алёшка, через четыре – Юрка. Но тайное рано или поздно становится явным. В феврале 1925 года Голубенко возвращался с работы навеселе. Купленный им дом состоял из четырёх комнат, где мы занимали одну. Он споткнулся о лежавшего на тротуаре больного человека. Тогда их много было, как и в годы войны, людей, бежавших из российских голодных центров, чтобы выжить в тёплых краях горячего и вроде бы доброго юга.
Голубенко, как он нам рассказывал, а говорить, подвыпив, он очень любил, мотивировал так: «Я своё наказание Господне уже понёс.» И это было настолько цинично, что бабушка, которую он откровенно побаивался, обрывала его: «Прекращай, нам неинтересно!»
Но в следующий раз Голубенко с упорством быка продолжал рассказывать о своих похождениях. Того несчастного человека его же палкой Голубенко тут же забил до смерти, а на следствии заявил, что этот бандит, дескать, напал на него. Дотошный энкавэдист-следователь докопался до всей тёмной жизни Голубенко, и суд, не сомневаясь в выводах следствия, припаял обвиняемому 10 лет строгого режима, которые Александр Семёнович отсидел полностью.
Но, как ни странно, он после тюрьмы устроился на работу счетоводом в одном солидном учреждении, где проработал до начала войны. Грамотных людей было тогда немного, а Голубенко как-никак три курса унивeрситета в Казани закончил.
Герш работал на номерном заводе «Красный Аксай» газо- и электросварщиком, у него была бронь. Он и другие подростки работали по 14-16 часов в сутки, завод изготавливал подводные лодки, которые испытывали аж на Аральском море. Герш часто ночевал на заводе, появлялся дома два раза в неделю измождённый, с выдающимся за плоскость шеи кадыком да выпученными глазами, так как в воде не хватало йода.
Вы любите черепах? Да, да, этих больших, неуклюжих, на первый взгляд, смешных и, бывает, очень старых, которым знаменитая черепаха Тортилла в праправнучки годится, обитателей среднеазиатских пустынь. Они медлительны, как многовековые серо-жёлтые пески пустынь. Их серая, изрезанная морщинами кожа и небольшие змеиные глазки отражают, казалось бы, многовековой уклад этих суровых для человека мест, где нет воды, а из обитателей фауны – вараны, они – черепахи, змеи да скорпионы.
Я не люблю черепах. Потому, что в далёком сорок втором, когда мы забыли вкус мяса, Герш по большим праздникам приносил с завода черепашье мясо. Черепах отлавливали за городом, грузили на подводы, разбивали кузнечным прессом их бронированные панцири, отрезали головы и лапы. «Деликатес» отпускали строго по весу – 400 грамм на человека. В первый раз бабушка долго варила, затем жарила это мясо и украдкой, забыв смахнуть хлынувшие слёзы, наблюдала, как я ел кусочек вонючего мяса. Оно было таким чёрным, какой бывает земля на Украине в апреле, когда настоящее весеннее солнце растопит остатки снега и наледи. Но, наверное, именно этим созданиям обязан я тем, что пишу эти строки сейчас.
Но другие не имели и этого. Была война, тысячи людей в тылу умирали от голода и болезней и были зарыты, как собаки, специальными похоронными отрядами.
Дедушка Шая часто отправлялся в город на трамвае со своим родственником харьковчанином Израилем Балагулой, чтобы выменять жалкие остатки барахлишка, которое нам удалось довезти до Ташкента, на продукты, если получится, хоть чаще не получалось; дедушка привозил последние новости, а иногда газету «Правда Востока». В тот злополучный день на центральной улице Ташкента, уже называвшейся именем Алишера Навои, к нему подошёл инвалид на костылях в галифе и военной гимнастёрке,
дал 500 рублей и заискивающим голосом попросил купить бутылку водки, ему в такой экипировке водку не отпускали.
Но, когда дедушка передавал купленную бутылку инвалиду, их вдруг окружило 4 человека в штатском, забрали водку, инвалида и дедушку и быстро куда-то увели. Больше дедушку Шаю никто из нас не видел. Напрасны были обращения бабушки и мамы в различные инстанции.
Один прокурор-узбек сказал бабушке: «Тывой мужа пырыступник, выйна сычас ыдот. Ыды ыс пырокаратура.»
Через два месяца дедушка умер в тюрьме, он был сердечник, и, наверное, отказало сердце. Это была первая в нашей семье потеря.
Мама работала сначала мастером на заводе им. И.В.Сталина, а затем уже в 1943 году ей удалось устроиться на ташкентский мясокомбинат экспедитором. Работала она по 11-12 часов в сутки, иногда все 14; работа экспедитора зачастую совмещалась с работой грузчика, и бедная мама буквально доползала до дому, чтобы (а работали почти без выходных) утром снова отправляться на мясокомбинат.
Но зато, о счастье, раз в неделю приносила она килограмм-полтора бараньих косточек, и всю неделю мы ели суп, сваренный бабушкой. Какой, я вам скажу, это был суп!
Александр Семёнович появлялся всюду без стука, как привидение, его не смущало то, что женщины могли быть неодеты, ведь летом в Ташкенте бывала и 45-градусная жара. Расхожей фразой его было: «Что тут у вас?» Он произносил это слитно, и получалось даже смешно – ШТОТУТУВАС. И я однажды решил дать ему кличку «Тутувас». Тут же я познакомил с этой моей идеей соседского сверстника Борьку и четырёхлетнюю сестрёнку его Нюрку. Кличка, придуманная мною хозяину, как его многие называли, вызвала неуёмный восторг у детей, мы стали прыгать и кричать во всю мощь наших неокрепших детских голосовых связок: «Тутувас! Тутувас! Тутувас!»
На крик вышла мать детей тётя Настя, которая всё слышала и, обращаясь почему-то к одной Нюрке, нараспев сказала: «Вот услышит Семёныч, он те гляделки твои бесстыжие повыдавлюет.» А затем резко бросила в мой адрес: «А ты, Мишаня, постыдился бы.»
Но я чувствовал, что в закромах её души давно зрела неприязнь к этому страшному человеку, названному её Семёнычем.
В своих предчувствиях я не ошибся. Именно тётя Настя изменила кличку, данную мной Голубенко, на свой манер. Дело в том, что фамилия её была Тетюрина. А новый вариант клички был уже не Тутувас, а Тетювас.
Кличка присохла к Голубенко, как присыхают коровьи лепёшки к глиняным стенам дувалов – намертво.
И теперь все мы: переселенцы, а также сосед-татарин, 16-летний профессиональный вор Ахматка, жена Голубенко, работник райкома партии Анна Григорьевна и даже высокий узбек, разносивший по утрам кислое молоко и смешно кричавший на ломаном русском языке на весь квартал: «Майко-о-о! Киснэ-прэснэ!» - называли между собой Голубенко на иначе, как Тетювас.
Тетювас ненавидел нас, каких только прозвищ мы не слышали от него – инородцы, иноверцы, жиды-предатели, говноеды-большевички. Я до сих пор помню, как будто вчера это было, лысый, наголо выбритый череп, в котором отражались солнечные зайчики, серо-водянистые, почти бесцветные глаза, дышащее перегаром злое, зверское лицо и руки, в которых, как мне казалось, могло уместиться полдома.
В пять с половиной я читал ещё не свободно, но уже не по слогам. Тетювас знал об этом и частенько приходил к нам как бы с новостями. Он выкладывал на стол «Правду Востока» и говорил бабушке: «Ента, пусть Мишаня почитает, уважит меня.» И я читал с молчаливого кивка бабушки: «От Советского Информбюро. Сегодня 12 сентября 1942 года наши войска в результате кровопролитных боёв оставили населённые пункты... (шло перечисление городов и сёл). Врагу нанесён значительный урон в живой силе и технике.»
Тетювас громко крякал и затем выдавливал из себя: «Ну-с, ну-с, посмотрим, недолго осталось.»
Обменявшись с бабушкой кое-какими фразами, нехотя, ретировался к себе, не преминув заглянуть в содержимое кастрюли, стоявшей во дворе на примусе.
Но бабушка была дома не всегда, в один из таких дней полупьяный Тетювас со страшными, налитыми водкой глазами, ввалился в нашу комнату, схватил меня за ухо и заорал: «Ты зачем, жидёныш, мою палку украл?»
Я не видел его палки, она потом нашлась у Тетюваса в чулане. Но он продолжал выкручивать моё ухо, матерно ругаясь во весь голос. И я, разревевшийся от дикой боли, укусил Тетюваса за руку, тот зарычал, как раненый зверь, отпустил моё ухо, я выскочил во двор и спрятался в узкой щели между двумя покосившимися сарайчиками, куда никакой Тетювас не пролез бы, и долго, в течение нескольких часов прятался от Тетюваса, пока не услышал такой дорогой для меня голос бабушки, звавшей меня по имени. После этого я слышал, как бабушка громко кричала на Тетюваса и грозилась ему отыграть за всё и, конечно, заявить в милицию. Он вроде бы перестал приставать ко мне, но нутром я чуял, что это до первого удобного случая. Жену свою он бил по вечерам до изнеможения, заодно бил и тёщу, больную женщину, которая вскоре, в начале 1943 года, умерла от его побоев.
В сентябре 1942 года однажды, как и ранее, Тетювас одел костюм, который называл парадным и уехал в город. Возвратился поздно, часов в пять вечера, мы с бабушкой как раз стояли на улице.
Он был пьян, но на этот раз глаза его источали такой блеск, такое наглое удовлетворение, было в них ощущение чего-то нееобычного. «Ростов гегнулся!» - гаркнул Тетювас и тут же, вместе с газетой и палкой, развернувшись на все 360 градусов, плюхнулся в арык, ещё мокрый от вчерашнего сильного дождя. «Там бы ты и оставался, хозер!» - вслух вымолвила бабушка, и Тетювас, вроде бы услышав это, из последних сил поднялся и прохрипел: «Скоро вам всем, жидам и большевичкам, белой бритвой горло перережем!» Тут же он упал, и из-под его головы выскочили две насмерть перепуганные, с измазанными в глине лапами, лягушки.
Теперь война медленно катилась на запад, Тетювас пил всё чаще, бабушка, уходя, закрывала дверь на купленный нами висячий замок, я для страховки прятался за старую ширму, стоявшую в углу комнаты, а Тетювас рвал дверь и орал от злости, что не может взломать её.
Но были в те далёкие годы моего детства минуты радости. Однажды летом сорок четвёртого я ожидал маму у ворот мясокомбината, напротив которого находилось старое одноэтажное здание ташкентской консерватории. Было знойно и душно, но со стороны дома напротив вдруг раздались звуки музыки, и я, как и ещё несколько зевак, заняли места у открытого окна. На нём не было ни штор, ни занавесок, а за окном (очевидно это была репетиция) пела знаменитая уже в то время артистка Тамара Ханум. Она была одета в узбекский национальный костюм, в такт мелодии пританцовывала и резко поворачивала корпус в обе стороны, её многочисленные косички очень смешно бились о грудь, бока и спину. «Момэ, момэ, гиб мир а киш!» - пела Ханум, и я вдруг почувствовал, что нет в этом мире ничего прекрасней и милей, чем принадлежать к этому древнему народу, создавшему чудные свои мелодии и напевы. Счастье этой еврейской девушки, которая страстно любит и делится с матерью самой крепкой – первой любовью, передалось мне так необычно, что я стал приплясывать на грязной ташкентской улице, подражая движениям Ханум и разводя руками, как она.
В этом хаотическом танце и застала меня мама, и мы ещё несколько минут после того как Ханум закончила петь, стояли, прижавшись друг к другу.
В сентябре сорок четвёртого я пошёл в первый класс школы № 148. Той же осенью, в октябре появился отслуживший своё в Красной Армии старший сын Тетюваса Алёшка, лейтенант, был он покалечен, сказалась фронтовая контузия и несколько переломов не помню уже чего. Списан он был подчистую.
А в начале сорок пятого его вызвали в военкомат и вручили согласно указа Золотую Звезду Героя Советского Союза. Алёшка к тому времени уже ходил без костылей, но плохо слышал.
Мы были удовлетворены хотя бы тем, что Тетювас перестал приставать к нам. Вначале он пил с сыном горькую месяца два, а потом, наверное, не выдержав, добрая тихая жена Тетюваса рассказала сыну всю правду об отце.
И произошло удивительное – теперь Алёшка бил каждый день отца. Мы слышали глухие удары через стену и возгласы Алёшки: «Вот те за это, за то, сучий потрох.» Бабушка не разрешала мне слушать это и выгоняла погулять на улицу.
Потом была Победа – 8 и 9 мая, а 1 августа приехал папа, он был в звании капитана, с блестящими пуговицами и погонами. Уезжали мы из Ташкента через несколько дней. Герш женился на одесситке Бете и остался в Ташкенте до конца дней своих. Бабушка сказала, что это вторая наша потеря. Она не плакала, она никогда в своей 82-летней жизни не плакала. Так в Ташкенте были получены мной первые уроки антисемитизма. Сколько их было потом. Но это уже тема для другого рассказа...
Поезд подходил уже к Аралу, а я всё даже во сне не отпускал непривычно пахнущие ремни портупеи отца. Мы ехали домой. И сколько бы я потом в жизни не возвращался домой, у меня не было такого чувства удовлетворённости, тихого счастья, светлой детской радости. Было 9 августа, началась новая война. На этот раз с Японией. Значит, быть новым похоронкам, новым вдовам и сиротам, новым людским бедам. Но мы ничего этого не знали и были счастливы. Где-то на юге остался Ташкент со страшным Тетювасом, остался навсегда. И мы жили уже на Украине, казалось, долго-долго, пока не умерли сначала бабушка, затем родители, а мы с братом почти через полвека после той проклятой войны отправились со своими семьями искать новую долю для себя, своих детей, внуков и потомков, оставив бабушку и родителей на грязном кладбище рядом с урановой шахтой, работающей несмотря ни на что. Простите нас, родители, за это, простите, если сможете.
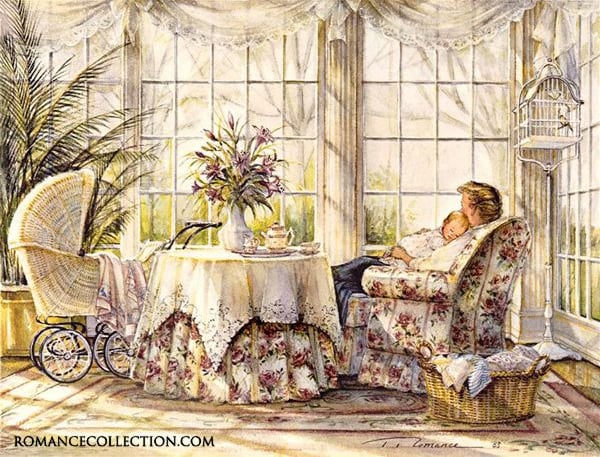

Мамины руки
Когда началась война мне было чуть больше шести лет. Росточка я был небольшого, щупленький, с веснушками; кудрявые волосы всегда слипались в один невообразимый клок на голове, и надо было приложить немало стараний, чтобы вечером вымыть мне голову, да ещё расчесать мелкие кудряшки.
Родителей я видел лишь вечерами: мама и папа пропадали на работе, поэтому за мной присматривала юная Маруся, девушка из села. Она была на целых двенадцать лет старше меня и делала по дому всю работу. Когда я со своими сверстниками часами играл в огромном подвале, расположенном в нашем большущем дворе по улице Дмитриевской 16, возле Евбаза (так в Киеве называли еврейский базар), Маруся находила меня, вытаскивала оттуда и высоким грудным голосом (так говорят только на Киевщине и Полтавщине) говорила нараспев: «Дывысь, Валько, ты ж на чорта схожий. Зараз же додому! Всэ батькам розповим!» Но сердце у неё было мягким, характер – покладистым, и я знал, что она меня обязательно пожалеет и промолчит.
Первый день войны я запомнил навсегда. Разрывы бомб, залпы зениток, вой сирен – вся эта какафония звуков оглушила меня. Я стал тихим, закмнутым до неузнаваемости. Родители даже забеспокоились о моём здоровье. Но, слава Б-гу, через несколько дней я опять играл в войну со сверстниками. Дети всегда так наивны. Разве надо играть в то, что уже сегодня стало страшной явью?
18 сентября 1941 года Киев покинули последние подразделения Красной Армии и назавтра немцы появились в городе. Но грабить магазины люди начали ранее, где-то с 12 сентября. Около 40 тонн муки со склада пекарни в нашем дворе растащили за два часа. Грабили почти все и всё. Это было страшное зрелище, но всё в мире относительно. Настоящие страхи овладели нами позже.
Маме, Лие Авраамовне, был 31 год. Родом она была из небольшого городка Новоград-Волынского или самого большого местечка в мире, как посмеивался отец, Григорий Лукич – русский, уроженец Одессы. Почему мама не эвакуировалась, несмотря на уговоры её родственников, для меня по сей день загадка. Отец рассказывал, что она изъявила желание остаться со своей семьёй, а там будь, что будет.
Это страшное объвление о том, что «все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться 29.09.1941 к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской» и взять с собой ценные вещи, документы и всю одежду (в случае невыполнения – расстрел), было расклеено практически на всех домах и заборах.
Вечером 28 сентября родители сказали, чтобы я лёг спать пораньше. Отец вытащил из кладовки большой старый чемодан, и вместе с мамой они стали собирать её вещи. Потом мама подошла ко мне, видя, что я не засыпаю. Такого раньше не бывало. Мама положила мне на голову свою руку. Она была влажной и необыкновенно тёплой. Таким бывает асфальт на площадях, подогретых жарким августовским солнцем. «Расскажи сказку», - попросил я, и мама, вдруг, запела тихим и нежным голосом. Это была старая еврейская мелодия, которую она иногда мурлыкала, когда у неё было хорошее настроение. Я слушал её и, несмотря на слипающиеся векли, не мог заснуть.
Мне представлялось, что мы с мамой идём куда-то в степь, где растут дикие красные маки, плавно кружатся большие стрекозы, и полёт майских жуков, поскрипывающих и чуть-чуть гудящих, не нарушает общей гармонии, а, напротив, придаёт происходящему в природе необыкновенный эффект. Колыбельная матери. Да ведь это тот самый мир, в котором пробуждается чистота чувств, нежность и какое-то неуёмное желание сделать для других самое-самое приятное, доброе, чтобы всё живое росло, цвело и благоухало. Обласканный материнской песней, я заснул, но ещё долго-долго не хотел отпускать её горячую руку во сне.
Назавтра во дворе нашего дома собрались все соседи-евреи, чтобы выполнить приказ коменданта Киева. Родители стояли, прижавшись друг к другу и плакали. Рыдала и няня Маруся. Мне объяснили, что мама уезжает к бабушке с дедушкой в Новоград-Волынский и скоро возвратится. Я пытался вложить в мамин чемодан своё игрушечное ружьё, втайне надеясь, что мама возьмёт меня с собой. Мама подошла ко мне, широко развела руки и до боли сжала моё худенькое детское тельце. Я чувствовал её прерывистое дыхание, нет – это был какой-то хрип или вопль отчаяния. У меня закружилась голова. Мама с папой через минуту ушли, а я остался стоять, как вкопанный, толком не понимая происходящего.
Отец вернулся поздно вечером. Он был осунувшимся, постаревшим и каким-то беспомощным. Нутром я чуял, что случилось что-то чудовищное и непоправимое. Через несколько месяцев отец женился на соседке, Марусю угнали в Германию. О её судьбе мне ничего не известно. Позднее появился на свет мой брат. С октября 1941 года до ноября 1943 меня не выпускали во двор гулять, опасаясь доносов, и не безосновательно.
Был я бледным, жёлтым, как восковая свечка. А перед самым освобождением Киева нашу новую семью вели по городу к возалу для отправки в Германию. Жалкий наш вид с «двуколкой» - повозкой, где находился нехитрый скарб, с орущим младенцем на руках матери так подействовал на солдата из оцепления, что он, оглянувшись по сторонам, рявкнул: «Вэк!», - и мы бежали за город. Там были многие наши земляки, и все мы, измученные и голодные, попадали попеременно под обстрел то своей, то немецкой артиллерии. В новой семье отца все остались живы. Повезло.
Когда я сегодня приезжаю в Киев, то сначала отправляюсь в Бабий Яр, где в 1941 году, в Йом Кипур и позднее было уничтожено около 150 тысяч евреев, а тела убитых – сожжены. Небо над Бабьим Яром в это время всегда, также как и в тот страшный день, серое, траурное.
Я смотрю на бегущие облака и вижу, что одно из них напоминает мне руки матери, распростёртые для последнего, а, значит, вечного объятия.
Прольётся серой массою рассвет,
Щемящим сердце криком журавлиным.
Воздастся жертвам, павшим, но невинным,
И палачам. Так Б-г устроил свет.
И хочется мне верить, что люди на земле найдут в себе мудрость извлечь уроки из прошлого, и матери всегда будут обнимать своих детей без слёз и страха.
По воспоминаниям В. Бубнова, 2000 год.


Взгляд, устремлённый в вечность
В основу рассказа легли реальные события. Фамилии изменены.
Юру Назарова я встретил в октябре 94-го года у памятника погибшим евреям. Мы стояли у пьедестала, на котором установлен бетонный трёхгранник, облицованный плитками из розового гранита. На пъедестале – надпись на русском, украинском и иврите: «Евреям – жертвам нацизма».
- Посмотри, Миша, как эти идиоты «посадили» памятник, - и показал пальцем вверх. Я глянул и ахнул. Вертикально где-то в трёх метрах от верха стеллы проходили провода высоковольтной линии электропередачи. Значит, памятник разрушится. Так оно и случилось. Уже через несколько месяцев плиты стали трескаться и падать, а строители, огородив участок приступили к ремонту.
Молчание было тягостным и невыносимым. Юра вдруг произнёс:
- А Фанечке был бы 71 год сейчас. Пойдём, помянем её и сородичей.
Вино в забегаловке было тёрпким и противным. Юра, который, кроме рюмки сухого вина в день Победы, вообще не употреблял спиртного, выпил стакан вина залпом. Мне кто-то рассказывал (мы проработали вместе семь лет в одном стройтресте), что у него есть некая тайна, связанная с далёкой юностью. Но Юра был по натуре молчалив и скрытен.
- Ты приготовился? Тогда слушай...
- ...С Фаней Файнштейн мы были соседями, учились в одном классе. Свободное время часто проводили вместе. Фаня училась хорошо, была активной, получила значок ГТО. Она, несмотря на хрупкое телосложение, дальше всех бросала учебную гранату...
- А ты? – перебил я его.
- Я – нет. Большую часть досуга я проводил, изучая учебники по архитектуре, помогал отцу мастерить макеты генпланов.
Отец Юры был известным в городе архитектором, после войны и до самой смерти преподавал в техникуме. Бабушка и мама Юры, учителя, были реперессированы в 37-м году и о их судьбе Юра толком не знал (архивы в войну исчезли).
Фаня, как могла, утешала друга, говоря, что это недоразумение, что они вернутся вот-вот. По-видимому ещё тогда у четырнадцатилетних подростков и зародилась та степень доверия и уважения друг к другу, которая переросла в дружбу, а затем – в любовь. Они любили без объятий, поцелуев, клятвенных обещаний. Лёгкое прикосновение к Фаниной руке приносило Юре вдохновение, он начинал читать стихи и просил подругу посмотреть, не вырастают ли за спиной крылья.
...Прошло почти два месяца фашистской оккупации. Евреи ходят с нашитыми на одежду жёлтыми звёздами. 29 сентября Юра упросил Фаню встретиться на несколько минут. Во время встречи они молчали. Вдруг Фаня неестественным для неё хрипловатым голосом произнесла:
- Завтра вечером начинается Йом Кипур. Если б нас не увозили на новое местожительство, я бы могла послушать, как чувственно поёт дедушка «Авийну малкейну».
Юра ответил:
- Но ведь мы с тобой в любом случае встретимся. Я каждый день буду смотреть на твоё фото. Ты не забыла мой адрес?
- Пути Господни неисповедимы, а человеческие... кто знает? – задумчиво сказала Фаня. Она сняла с шеи серебряную цепочку и опустила в тёплую Юрину ладонь. По-детски поцеловав его в щеку, через секунду растворилась в вечерних сумерках.
...Сбор евреев с вещами назначен у хоральной синагоги. Юра долго возился со старым велосипедом, прибыл в половине девятого. Подход к синагоге охраняют автоматчики. Выезд – только по одной улице. Юра выбрал удобную позицию и стал ждать. Вот появились два закрытых автофургона. Но что это? Они поворачивают в противоположную от вокзала сторону. Сзади, в ста метрах – Юра. Знакомая улица Пашутина, мост через реку Ингул, улица Яна Томпа. Машины сворачивают направо. Городские постройки позади. Ехать в степи за транспортом опасно. Надо повернуть на тропинку. Велосипед чуть-чуть поскрипывает, но движется. А вот и рощица. С большака Юру с велосипедом не видать. Ориентир – гул двигателей. Проехали километра четыре. Автофургоны останавливаются и начинают разворачиваться в противоположном направлении. Желтеют два противотанковых рва, отрытых в июле и расположенных перпендикулярно дороге. Юра, выбрав клён повыше, залезает на него, хорошо, что листва не опала. Немцы с полицаями выталкивают евреев из машин, заставляют раздеться догола и встать спиной ко рву. Два пулемёта – рядом. Крики, плач детей, проклятия в адрес изуверов, удары прикладами, вздёрнутые руки к небу с мольбой и длинные пулемётные очереди.
Юра сжал кулаки и скулы. Где Фаина? Вот падает её дедушка, раввин Исай Межерицкий, а вот её мама, добрая и отзывчивая Маня Исаевна медленно клонится к земле. Держись крепче, Юра! Его трясёт со страшной силой. Только бы не свалиться! Уже всё кончено. Вот полицаи забрасывают трупы жёлтой глиной, пред-варительно пристреливая из ружей раненых. Юра не в состоянии разжать рук, впившихся в ветки клёна. Наконец он сползает с
дерева и перочинным ножом делает зарубки на нём.
Как добрался домой – не помнит. Три недели болел, в горячке вскакивал с кровати и, по словам соседки, кричал: «За что, гады?» Тут же падал навзничь мертвенно-бледный. Выздоровев, съездил на место экзекуции и пометил ещё несколько деревьев.
....После прихода Красной Армии Юра ушёл на фронт, воевал наводчиком в артиллерийской батарее. В Венгрии, в городах Секешфехервар и Будапешт его батарея метким огнём подбила несколько немецких танков. Юра был награждён двумя орденами Славы (последний орден нашёл хозяина через 20 лет). Полученная на войне контузия давала о себе знать долго. Юра заикался всю жизнь.
Затем – учёба в строительном институте, работа в проектной организации. Когда строители проложили автодорогу на месте расстрела евреев, по счастливой случайности не задев механизмами останки жертв, Юра отдыхал в Одессе. Через год началось проектирование жилого массива рядом с тем злополучным 4-м километром Ровенского шоссе. Юра обращался к руководству партийных и советских организаций и даже в КГБ. Он писал, что нельзя прокладывать коммуникации по костям павших евреев и просил вынести предварительно останки убитых и перезахоронить в другом месте, если уж возникла необходимость проложить сети именно здесь. Все отмолчались, а Назарова отчитали в КГБ: «Ты же русский человек, зачем хлопочешь об этих евреях? Больше всех тебе надо?»
Но Юра, бывший солдат, не сдавался. Он обратился к знакомой, Зине Завелевой, которая возглавляла сантехнический сектор проектантов и у которой погибли на 4-м километре тётя с дядей. Хоть Зина по служебным обязанностям не должна была этого делать, она за несколько ночей выполнила дома план прокладки наружных сетей водопровода и канализации в обход рвов. Так сети и проложили.
Юра замолк. Я попросил разрешения посмотреть фотографию Фаины. Юра достал из пиджака специальный футляр с фотографией. «Руками не трогать, никому не рассказывать». Я молча кивнул.
Время пощадило бумагу, несмотря на то, что минуло уже более полувека. На меня смотрела необыкновенная девушка: высокий лоб, две чёрных, как смола, косы, нос с небольшой горбинкой. В ней воплощалась красота, присущая, пожалуй, только еврейским девушкам. Но особенно поражал взгляд, он был проницательным, может, где-то задумчивым и таким целеустремлённым, всевидящим. Да, это был взгляд, устремлённый в вечность. Нарисованные воображением художников лица и взгляды всевозможных мадонн для меня с этой минуты – ничто в сравнении с реальным взглядом Фани Файнштейн.
- Своих детей у меня нет. Жена давно сбежала с очередным хахалем. Я не вечен. Что делать с фотографией и цепочкой? Подскажи, Миша.
И пока я лихорадочно перебирал варианты, Юра выдавил:
- Вот если б в музей, в еврейский музей...
Вместо эпилога.
Через четыре года в стенах той самой бывшей хоральной синагоги открылся еврейский музей. Среди экспонатов – фото в золочёной рамке и пожелтевшая от времени серебряная цепочка. Ниже – подпись: «Фаина Файнштейн (1923-1941). Одна из 6 миллионов жертв Холокоста».
